Интервью
Интервью с электриком на стройке
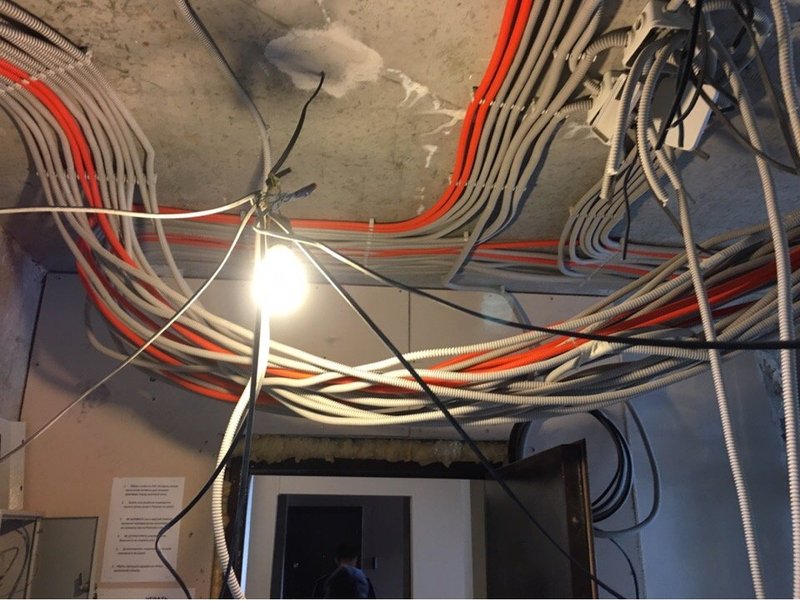
Расскажи о себе: где ты родился, где учился, кем хотел стать?
Где родился — там не пригодился: дважды переезжали. Сейчас нет города, в котором я родился. Мы давно уехали.
К вопросу о том, откуда взялось и как стал электриком… От отца. Отец электриком трудился. С электромонтёра второго разряда начинал и дорос прям сильно хорошо. В конце 90-х ему платить перестали совсем. Если раньше ещё можно было какой-то меной крутануть... Грубо скажем, вот отец мастером работает в городских сетях — тогда ещё этой бесконечной раздробленности энергосетей не было, интернациональное советское всё уже развалилось, потому что юридически структура расформирована, но есть база запчастей, есть здание, есть руководители, есть подотчётная земля, её же никуда не денешь, и людям что-то надо делать. А денег нет, не платят. Вернее, платят, но там зарплата 200 рублей, буханка хлеба 950 в магазине. И, например, на птицефабрике чего-то сломалось, он поехал, починил — ему за это УАЗик яиц. Вот он на мукомольный поехал, там конвейер сломался, он починил — ему за это пол-КАМАЗа муки. Вот яйца, вот мука. Он эти две машины отправляет на хлебозавод, получает два КАМАЗа хлеба. Хлеб по ларькам раскидал. И вот — там колбасы, тут мяса, там ещё что-то... Как-то на молокозаводе что-то сильно поломалось, и он приехал, быстро починил — он не дурак, грамотный, учился на профессию, по-настоящему учился, на большом заводе практику проходил, то есть у него прям всё от начала до конца по-белому — ему всучили кучу молока, а девать его некуда, сами мы молоко не очень. И у нас трёхкомнатная квартира — наследие «кровавого режима», метров 70 — так всё свободное место в квартире — до потолка ящиками молока Parmalat. Вот такое вот воспоминание из детства. В 90-х платить перестали, в те моменты нефтянка была отраслью, которая более-менее на плаву оставалась.
У меня с учёбой не задалось, приехал домой, 19-летний лоб, не буду же я у родителей на иждивении сидеть. Ну, покрутился-повертелся, надо работу. Батю в сфере все знают, вся родня там. Куда можно без образования? В посёлке техникум, есть ДОСААФ [общероссийская общественно-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» — прим. Сизифа], которая готовит операторов всякой техники, машин, механизмов, туда направляли от школы бесплатно, в среду и в пятницу с последних двух уроков снимали. А дальше в 18 лет сразу в ГАИ, там права на технику. То есть в 18 лет у тебя уже какая-никакая профессия — например, водителя категории В, С, или слесаря второго разряда по ремонту автомобилей [профессия автослесаря предусматривает семь квалификационных разрядов, где первый — начальный, седьмой — наивысший; — прим. Сизифа].
Кружок кройки и шитья — на него серьёзно, по-моему, только я ходил. Я там всё переходил, потому что времени много, делать особенно нечего, интернета не было тогда, только появлялся вот этот, который с телефона — жутко медленно, отвратительно дорого и непонятно, зачем он нужен, в том смысле, что если что-то надо — вот же библиотека, как удобно. Если чего-то в библиотеке нет, оно у бабушки на полке где-то есть всегда.
Короче, я в 18 лет вышел из ДОСААФ водителем, поехал получать вышку, вышку зевнул, приехал — надо работать.
А на кого на вышке хотелось учиться?
Там по химии, тоже по нефтянке, но в другую сторону, в технологию нефтедобывающую. Но батя корочки купил, и я пошёл работать.
То есть, тебя не обучали?
Нет, почему, всё было. В частных школах 4-месячный курс слушаешь, получаешь 3-ий разряд. Что-то надо сдавать, но, когда есть люди в сфере — это вообще проблемы не составляет. Сейчас какой-то реестр выдумали, и все рабочие должны быть в этом реестре [в 2013 году была создана единая система с реестром всех документов об образовании и квалификации — прим. Сизифа]. Ну, расскажите мне про реестры, я всю свою карьеру по левым документам работаю. Ответственным руководителем на крупных государственных заводах работал, при том, что уже все реестры есть, а у меня в руке корочка, которую я полтора часа назад сам себе выписал, штамп яйцом перекатал — всё, работаю. Всё, что с частным строительством связано, невозможно регулировать. Владимир Владимирович многоуважаемый — в 2014 году то ли на интервью, то ли на прямой линии — его спросили: «Что делать с коррупцией в строительстве?». Он посидел, полминуты на камеру подумал и сказал, что «строители — это отдельный мир, с ними ничего невозможно сделать».
В общем, начал работать электромонтёром по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3-го разряда. Взяли сразу, потому что отца все знали. Ну, классический блат изнутри, один звонок самому нужному человеку: «Вот надо, чтобы человек работал» — «А кто такой? А, сын… Ну, давай сюда».
Но тебя же не в кабинет посадили.
Да там дело не в том, что кабинет. Можно отдельно поговорить, как мальчики на мастеров в техникуме учатся три года, вот он техником приходит в коллектив, а там работяги — по 40 лет мужикам, из них 25 в профессии, а пацан тяжелее ручки ничего не держал. Тут опыт бьёт всё вообще.
И вот я электромонтёр. Не в самую грязную работу засунули. Батя электриком всю жизнь, это, хочешь не хочешь, откладывается: вот он розетку в кухне идёт менять: «Пойдём сюда — говорит — то подай, это подай. А делать нечего, смотришь: «Батя, а это зачем? а то зачем?» Причём ещё начинается пубертат, там лишь бы не сидеть. Так появились базовые навыки. То есть, я когда пришёл в профессию, для меня электричество не было чем-то удивительным. Выключатель поменять — это было вообще без вопросов. Я сейчас вижу тенденцию, что на любую херню нанимают человека, а меня воспитывали так, что всё должен уметь сам. Вот этот вот кровавый сексизм, когда мужик в хате должен всё уметь сделать сам: чайник починить, телевизор подпаять…
Меня в слесарку всегда тянуло, с механизмами, с машинами — до сих пор нравится. Вот что смешно: в школьном аттестате по физике «отлично», везде «отлично», но, если в четверти открыть журнал, там будет тройка одна-единственная по физике за раздел «Электричество». Никогда не понимал электричество, то есть глубину физических процессов, как там всё это насыщают магнитные поля… Моя работа больше про приемы труда, навыки организации труда, а как бы саму физику электричества… Да и сейчас, с развитием технологий, физику и знать не нужно, потому что сейчас всё нацелено на то, что человеку не нужно быть специалистом, чтобы в какой-либо сфере на уровне рабочего что-то делать. Всё какое-то быстросъёмное, всё модульное, автоматическое… Вот, зажимы для проводов: если раньше надо было 11 см скруточку крутить, потом её кислотой, канифолью, потом оловом расплавленным пропаять… Сейчас есть зажимы, для работы с которыми даже изоляцию снимать не надо, то есть ты его просто — клац! — нажал и пошёл, мозгов не надо, навыков не надо, ничего не надо. Всё ориентируется на низкоквалифицированный персонал, что с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо: не понимают люди, что делают.
Итак, ты — электромонтёр 3-го разряда. Как профессия привела тебя к стройке?
Ну, до стройки ещё несколько лет. Сначала внутри предприятия мы обслуживали большую сеть электроэнергетическую. Управление хозяйством энергетическим делится на всякие службы: кто-то ремонтирует, кто-то меняет лампочки, кто-то меняет провода, кто-то меняет трансформаторы. Там крутился, а там тоскливо — перспектив нет. Вот посёлок на 40 тысяч: треть — нефтяники, треть — электрики, всякие службы автоматики, телефонисты и всё, что с этим связано, ну и треть — водилы. Ещё какая-то мелочь в количественном отношении, типа, госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, три врача скорой помощи, пять врачей общей практики, трое детских, но они тонут в основной массе людей. Вот по улице идёшь — всех знаешь, а если ты прямо человека не знаешь, что ты его через человека знаешь. Было весело. С другой стороны, захочешь нашкодить — ты однозначно получишь, тут без вариантов, если под протокол не докажут, то между собой все будут знать, кто это и чё это.
Зато ответственности учишься.
Да. И вот я там по службам попрыгал. Через это освоил и автоматику, и линии, и трансформаторы, и оперативные мероприятия. Началась заводская рутина: пять дней рабочих, два выходных.
Пытался то в группе поиграть, то в гараже поковыряться, то ещё что-то. Ничего не пошло, собрал манатки, приехал в Питер. Одноклассники с жильём первое время помогли. Это обычно, по-моему, когда возраст около 20 лет — все так переезжают, сколько этих историй. Тут по своему деревенскому понятию пошёл устраиваться на «серьёзное предприятие» — метрополитен. Ребята, здрасьте. Не знаю, как сейчас, но тогда было понятие «горячего» стажа и «холодного» стажа у электриков, то есть, если у тебя перерыв меньше 14 календарных дней, то ты восстанавливаешься без пересдачи всяких квалификационных экзаменов. Вот я по «горячему» с одной большой структуры совсем в другую.
А тут — метро, это же вообще прикольно! Всё, куда пускают по пропускам, дико интересует в пубертат, что же там такое. Сунулся в метро, поговорил, отправил копии документов. Ну и вот я с пачкой «корочек» иду по всем службам, с подтверждённым стажем, вот — телефон отдела кадров, вот — телефон мастера, вот — начальника управы: звоните, проверяйте, меня позавчера рассчитали, я на расчётные деньги прилетел. Там проверять не хотели даже, мастер говорит: «Ты откуда такой взялся? Я в таком возрасте с таким стажем не видел людей давно. Ну, давай к нам» — «Чё по деньгам-то, ребят? На сайте одно, в кадрах не отвечают на вопрос про деньги, мне тут жрать нечего» — «Ну, поначалу без персональных тарифных ставок, немного, конечно, будет» — «Ну сколько немного?» — «Где-то 25, может, 26 получится» — «Так, хорошо, а дальше?» — «Дальше оперативные, персональные ставочки, оклад поднимется, там побольше, ну, 28 будет». А куда 28, если я за квартиру 17 отдаю? В 20 лет жить на 11 тысяч в чужом городе — это нужно прям очень крепким парнем быть, в 20 лет другого совсем хочется.
Ладно, в метрополитене плохо, давайте куда-нибудь в Мостотрест, там же тоже электричества дохрена на мостах. А там плюс-минус та же тарифная сетка, на 300 рублей отличается. И всё под восторженные крики, типа: «Чувак, ты хорош, ты нам сильно нужен, тут таких людей нет, чтобы в этом возрасте и с таким опытом». Мне не надо было учиться, я просто корки взял и пошёл набираться опыта, у меня башка в целом создана опыт впитывать. И везде копейки. Ну а куда? Покрутился-повертелся, в какой-то момент отчаялся, у меня остались последние деньги на собеседование съездить. Помню, что я всю ночь просидел, тогда только открыл для себя hh.ru, который ещё сильно криво работал. Выписывал на листочек телефоны по вакансиям, что устраивает, что не устраивает. Настало утро, я начал звонить. Первая попавшаяся — причём, я её выписал в шутку, потому что там была непонятная контора, вообще без истории, ни по каким налоговым не бьётся, но предлагали хорошие деньги. Приехал в контору, они там тоже в ладоши: «откуда ты такой взялся». Оказался судострой, а там у них свои монтёры, потому что правила другие.
Насколько отличалась зарплата?
В четыре раза почти. Я к этому подрядчику, потому что делать уже нечего. Ну и на удивление мне повезло с ними. Тогда не было слова «аутсорс». У судостроительной конторы было своих рабочих человек 60, и аутсорс пригоняет 300 человек электриков. Когда я там работал, мечтой было перейти работать в штат завода, потому что там те же деньги, но график. А у нас графика как бы нет. Приходит мастер и говорит: «Ребята, надо выйти в выходные поработать». И ему, как правило, не получается отказать никак. Проходняк большой, плюс, сразу никто не сказал о специфике: вот варят судно в доке, нагнали туда 150 человек, вот они варят, варят, варят, наварили. Если следующего судна нет — сварные не нужны, аутсорсовая контора закрывается. Я сильно удивился, потому что, когда нас так же турнули, мне месяца через два перезвонили с конторы и сказали, мол, здравствуйте, мы тут бухгалтерию подбиваем, мы вам 12 тысяч рублей должны, приедьте, получите. И реально выдали.
Потом решил попробовать сменить деятельность. Пошёл в такси. Полгода покатался. По моему опыту, у тебя в такси есть деньги, пока ты работаешь. Только 2-3 смены пропустил — всё, на последние едешь на автобусе в таксопарк. Деньги как будто бы постоянно в руках, но только бросил работать — всё, жрать нечего. Пока работаешь — ешь. Вот так я такси себе запомнил.
В такси ты ещё без агрегаторов работал?
Появился Яндекс тогда.
Дальше я особо работу не искал, она меня сама нашла — оказалось, через двух родственников человек стройкой занят. Ну, начал с ним. Там уже: «вот те лопата, вот те тачка, вот 70 человек узбеков, щебёнку отсюда вон туда на тачке возить, а мы на тебя будем сверху смотреть». Там котлован, край котлована «берма» называется. Вот они сверху на берме стоят, смотрят, как ты работаешь. Не то чтобы специально осуществляют контроль и надзор, просто вышли покурить, и уже видно. Там сильно быстро всё пошло, как только обнаружил знания.
Тут хочется разделить формальное образование, то есть диплом инженера-строителя, и реальный опыт. Потому что в то время стало понятно, что у головастых и рукастых ребят, как правило, нет времени на диплом. Даже купить, чтобы формально засвидетельствовать свои знания, обычно денег нет. Диплом стоил 700 тысяч рублей. Тогда столько иномарка хорошая стоила из салона, если у человека есть 700 тысяч рублей, он не будет покупать бумажку, без которой он уже смог заработать себе на иномарку. В разных отраслях немножечко по-разному. Обусловлено тем, что где-то за этим строже контроль государства, где-то не строже. И среди инженерного состава действительно инженерного состава мало. С годами вижу тенденцию: чем дальше — тем меньше грамотных инженеров, именно в каноническом смысле, которые триста лет назад строили. В основной его специальности с таким инженером вообще невозможно спорить, потому что он прям определениями, номерами страниц нормативной документации наизусть херачит, он — энциклопедия. Те, которые новые приходят, по возрасту между мной и ими, у них уже примитивные понятия из каких-то старых времён, типа: «я настолько хорошо владею предметом, что я знаю, что в этом узле, допустим, вместо 24-й арматуры можно 16-й обойтись — прочность не изменится, а бабки получатся». А молодые пацаны приходят, только из институтов — они, как правило, только бы не по профессии.
Расскажи, с кем ты работал на стройке, что за люди приходят работать?
Ну, смотря, куда. Смешно: в многомиллионном городе кто занимается квартирами — почти все всех знают, кто занимается домами — почти все всех знают между собой. Те, кто на крупных госзаказах — тех тоже пять человек пересчитать по городу. Я вот работал, потом какое-то время по обстоятельствам не работал, а потом вернулся. И я с двух ног залетаю — а там все мои старые знакомые. Я позвонил пацану, спрашиваю: «Слушай, а чё сейчас стоит розетку поменять?» — «Ну, а сколько их там? Дохера или мало?» Цена зависит от объёма. То есть, когда многоквартирный дом строится, и в нём тебе 12 тысяч розеток надо поставить, розетка там может быть по 25, по 35, по 50 рублей. А если на выезд, там математика другая: две с половиной сам факт того, что я приехал вообще — отвёртку с кармана не достанешь, две с половиной дайте. Вот мы с товарищем работали, у нас был в какой-то момент такой социальный проект. Ну, громко, конечно, сказано, но мы в какой-то момент задумались о вечном с ним и херачили электрические заявки по низу рынка. Основными клиентами были бабушки и студенты.
Возвращаясь к вопросу о стройке. В инженеры, в руководящий состав — туда попадают по способностям. Если человек способен, его туда вынимают, он там нужен. И дальше он в сфере в этой крутится, скажем так, по гарантии, если есть те, кто за тебя может слово сказать. Среди рабочих, в основном — ребята из республик из братских, из Средней Азии. Массово во всех сферах вообще, кроме того, что требует квалифицированного труда: машинисты кранов, сварщики…
А ты можешь им дать какую-то оценку в плане выполняемой ими работы, их обучаемости?
В среднем нет разницы. Грубо, на глаз: вот сотня человек, взять их, в ряд поставить — из них получится трое прям хороших бригадиров, толковых, качественных, с пониманием строительного процесса; из оставшихся получится человек 15 хороших звеньевых, то есть он всей картины не видит, но в рамках своей задачи он прям сильно хорош. Остальные заняты тем, что таскают арматуру туда, куда не дотягивается башенный кран, потому что кран так запроектировали и так поставили, что посреди площадки строительной есть чёрное пятно, куда не дотягивается ни один кран. И вот туда люди 6 тонн в смену как-то снесли арматуры — очень много. А потом удивляемся, чё они болеют.
С инженерной точки зрения человек, который расставляет краны, должен организовать трудовой процесс, расставить по площадке краны. А он руководствуется какой-то своей обывательской логикой: вот котлован 100x100, вот 4 крана, которые по 35 метров берут. Как их поставить? Да хуй его знает, вот по углам поставлю. И у самого мозгов нет, что оно должно быть организовано не так. Я видел грамотно организованные строительные площадки, просто тенденция такая, что их всё меньше, потому что те, кто это всё устраивает, как правило, со строительством не особенно-то связаны, а если связаны, то чисто теоретически. Производственная практика напрочь отсутствует. Ещё на судострое к нам присылали инженера-проектировщика, он там накосячил в проектах, и его пригнали на судно, чтобы он посмотрел, где он накосячил. Ну, там смеялись с него: по всему было видно, что он на судне первый раз. Инженер-проектировщик. Первый раз на судне. Как это вообще возможно?! Он проекты рисует, подписи свои ставит, люди это строят, на этом служат потом, флот — это не работа, это тяжелая служба. А он это всё выдумывает.
Оторванные от земли.
Оторванные вообще. И так же в стройке — чем дальше, тем больше эта тенденция. Те, которые соображали сильно, они уже отходят, они просто кончились. Если цинично сказать, что люди — это ресурс, и мы можем повышать уровень образованности или понижать, то есть кто-то может быть сильно грамотным, но не уметь копать, а кто-то может охуенно копать, но не уметь считать — и те, и другие нужны, вопрос в том, в какой пропорции. Я понимаю, это цинично звучит, но это так. Вот инженеры кончились, всё. Всюду коммерсанты, вплоть до того, что, когда в лицо говоришь: «Ребята, если здесь запроектирована балка из двутавра, она должна быть из двутавра, потому что на ней вот такие специфические нагрузки, которые, как сопромат нас учит, держит только двутавр» — «Да-да, хорошо, но двутавр — это что такое? Это рельса. Ты чего, рельсу сюда собрался прихуярить?» — «Да не я собрался, так в проекте нарисовано» — «Двутавр — это дорого, не. Мы туда уголок поставим!» Что такое двутавр в сравнении с уголком? Это я не для красного словца, я буквально такой пример знаю, я в нём принимал участие посильное, пытался изменить эту ситуацию, не вышло. Я отказался, вместо меня другой человек пришёл и сделал. Вот так оно работает: «дешевле — значит, лучше», отсюда куча проблем.
И с моей точки зрения, самая большая проблема у нас даже не сегодня и не сейчас, она нас наебнёт лет через 10, потому что низкое качество стройматериалов, низкое качество сырья, низкое качество людей, которые это всё строят — оно сейчас, в это мгновение строительства, никого не ебёт, оно начнёт приносить физические проблемы попозже. Встречаются же дома, у которых проводка ещё довоенная, дома до сих пор стоят и проводка работает, таких ресурсов не закладывали, чтобы это работало 100 лет, а всё работает, потому что высокая квалификация тех, кто строил, и изначально на уровне нормативов запроектировано с большим запасом. Отсюда уникальные истории, когда в морском порту трансформаторы стоят 1939-го года, и работают, и чё им будет.
А сейчас ещё большая часть нормативов перекочевала из разряда обязательных в разряд рекомендуемых [С 1 сентября 2022 года в строительной отрасли осталось всего пять обязательных сводов правил (СП) и ГОСТов, все остальные СП и национальные стандарты перешли в разряд добровольных; с марта 2025 в ФЗ № 214 внесены изменения, благодаря которым застройщики могут сами устанавливать стандарты отделочных работ, размер компенсации не может превышать 3% от стоимости квартиры, а гарантийный срок на отделочные работы сокращён до 1 года — прим. Сизифа]
Кроме того, что перекочевало в разряд рекомендуемых, их же ещё и меняют. Вот за электроэнергетику я знаю, что всё это дело несколько раз реформировалось и реструктурировалось, и меня это всегда беспокоит. Новые эксплуатационные, охранные документы, казалось бы, становятся строже, но скорее в экономическом плане: штраф был 10 тысяч, а стал 20, или был для физлица 5 МРОТов, для юрлица — 50 МРОТов, а стало 30 МРОТов и 500 МРОТов условно. Но если посмотреть техническую часть, то диапазоны допустимых значений всё больше и больше расширяются, потому что техническую составляющую, которая вышла из строя, вырабатывает ресурс и теряет свои характеристики, заменить не на что, а если и можно заменить, то это очень дорого, дешевле расширить технические диапазоны нормативной документации.
Есть норматив на отклонения напряжения, которое у нас в розетке: раньше было ±5%, потом стало -5% +10%, и так было очень долго, а с 2014 года стало ±10%, хотя называется «-5%» — это допустимый, а «-10%» — это аварийный. Но если книжку внимательнее почитать, то аварийный режим допускается, но если раньше он допускался кратковременно, то сейчас он «до ликвидации».
Ездил как-то в центральный район в конторку, у них на кухне, где людей кормят, кофеём поят, в какой-то момент техника погорела вся. Норматив 230 ±10 вольт, паспорт технический открываешь на технику, написано «230-240», и вот напряжение вниз упало до 207, и техника сгорела. Чем ниже напряжение, тем выше ток, а там уже всё цифровое, и половина компьютерных вещей просто всё…
То, что строится сейчас, вводится в эксплуатацию — не скажу, что там буквально коррупционные схемы, и кто-то кому-то вываливает чемоданы денег, «только подпишите», нет. Оно всё строится в соответствии с действующей нормативной документацией. Вопрос глубже: нормативная документация — хуйня, она уже допускает слишком много, пределы прочности и запасы по прочностям, запасы по мощностям — всё плывёт в сторону уменьшения, делаем впритык.
У меня лично было, что сооружение на этапе строительного проекта — говно. Вот большущий торговый центр, который стоит прямо над станцией метрополитена, вот в нём огромный магазин очень старой всероссийской сети по торговле всяким электронным барахлом, площадь магазина примерно с футбольное поле, вот у них автоматика защиты начала с ума сходить. Один человек знакомый поехал — не справился, второй поехал — не справился, докатилось до меня. Приезжаю я и сразу понимаю, почему: я щит открываю, а оттуда — как из духовки, кабеля трогаю — изоляция мягкая. Изоляция мягкая, когда греется, греться не должен провод в процессе эксплуатации. Померил — а там токи недопустимые. «Напиши бумажку какую-то про это». Написал. «А как так получается, у нас же всё по проекту построено? Вот там кабель полтора квадрата» — «Ребята, 18 ампер по нему течёт, это много для полутора квадратов».
А ещё хотелось бы уточнить, что сейчас полтора квадрата — это не те полтора квадрата, которые в нормах написаны, там полутора квадратов, как правило, нет, то есть там что-нибудь около 1,4 мм2, потому что позволяет ГОСТ на кабеля: чтобы написать на кабеле «1,5», кабель должен быть от, скажем, 1,4 мм2 до 1,6 мм2. Технология давно позволяет делать ровно 1,5 мм2, но зачем? 1,4 мм2 делать дешевле. Якобы, кабель, сделанный по ТУ [технические условия, установленные заводом-производителем; любой кабель изготавливается по ТУ, но не все провода имеют сертификацию по ГОСТ — прим. Сизифа], хуже, чем кабель, сделанный по ГОСТу. Это байки, оно всё одинаковое говно. Плюс, медь теряет свойство, качество теряет, её же переплавляют, постоянно добавляют туда всякую хуйню — имею в виду недобросовестных ребят, которые с этого наживаются, которые не-медь сдают как медь. Её плавят, делают кабельно-проводниковую продукцию, а качество самого материала — вниз. И вот кабель 1,4 мм2, и медь — говно, и вот даже при своих проектных амперах ему в принципе нехорошо. Плюс, есть норматив, тоже старый, который кочует из документа в документ, о том, что электроустановка должна быть нагружена не более 80% от своей номинальной мощности, но зачем это соблюдать, не нужно. И вот теперь мы получаем картину, что в большущем торговом центре кабель лежит под потолком, 60 градусов по всей длине, по нему текут недопустимые нормативами токи, я открываю проект, а в проекте так и рассчитано. В книге отдельным пунктом табличка выбора сечений, исходя из токов и мощностей, она прям государственная книжка ПУЭ — Правила устройства электроустановок, она на уровне федерального закона, её президент, насколько я знаю, утверждает. Ой, ещё одна книжка подписанная, которая не соблюдается. И получается, что набегающая сумма приводит к тому, что нарисован неправильный проект, но открываешь лист — а он согласован всеми: технадзор прошёл, саморегулирующую организацию прошёл, инженер торгового комплекса допустил, всё это приняли. У вас даже строить ничего не надо было, вы бумажку почитайте, вы ж, блять, под ней подписались, вам же, ребят, сидеть за это. А нет, знают, что сидеть не будут, и всё — они не глядя подмахнули, «стройте парни, никогда ж ничего не было».
Это нельзя, 60 градусов — нерабочая температура для кабелей, тем более, в общественном здании. По-хорошему, это сейчас нужно вывести из эксплуатации и не допустить ввода до устранения замечаний. «А что же нам делать?» — «Это надо выключить». — «А как мы выключим, как мы торговать будем?». Вот они не могут своим ничем торговать без света, а то, что они могут неиллюзорно загореться… Изоляция течёт, она мягкая становится и буквально стекает возле автоматических выключателей, в распаечных коробках, там, где внешний покров снят, и только жильная осталась — вот она стекает.
Тяжело и грустно такие разговоры вести, особенно когда начинаются корчи коммерса, типа: «Блядь, ребята, я, конечно, понимаю, что это всё неправильно, но надо же как-то жить». Это всё на этапе строительства выясняется, ещё последствий нет, ещё ошибка не совершена, мы просто выяснили, что мы можем сейчас ошибиться: «Ты чё, у нас же по бумажкам всё правильно? Правильно! И всё, нам КС-ку [условное обозначение унифицированных форм документов в капитальном строительстве, например, КС-2 — акт о приёмке выполненных работ; — прим. Сизифа] эту подпишут» — «Так оно неправильно, у тебя на уровне проекта хуйня» — «Не нам же за это отвечать, нам дали проект, по нему сделаем, потому что, если мы начнём что-то делать иначе, нам не заплатят».
И всё, главный аргумент — деньги. Когда пытаюсь что-то рассказать о том, что людям это эксплуатировать, через 5 лет, через 10 лет придёт кто-то это всё разбирать, обслуживать… По-хорошему, по правилу, строитель-то должен думать об эксплуатации, когда строит, о том, как людям будет это удобно чинить, обслуживающему персоналу добираться, а мы в сплошные потолки гипсовые заклеиваем на клей светильники, потому что они по-другому не держатся, а сгорит через год — ну то ж через год! А он сгорает не через год, а через полтора месяца, пока у нас ещё гарантия. «Ты же это делал, знаешь, как оно, сделай» — «Так мне пол потолка сейчас поломать надо» — «А как же так вышло, мы только покрасили…» — «Я ж предупреждал, что люки нужны». — «Ну что же ты не настоял».
Как ты с рабочего дослужился до инженерной должности?
Ответственным за электрохозяйство был, прорабствовал много, причём не только по электрике, но и по общестроительным работам. На земельных работах прорабствовал, что самое смешное. Вообще никогда не думал, что будет бригада землекопов и шесть единиц техники подо мной работать. Это обратная сторона того, что документы не нужны. Если соображаешь, то корка — диплом об образовании — в конечном итоге не котируется. Видит инженерный состав, что ты чё-то соображаешь — ну, попробуй на следующую ступень, давай звеньевым. А у тебя не просто получается, ты ещё и бригадира, под которым 50 человек ходит, на планёрке по утрам разносишь. И вот тебя бригадиром ставят. Там поначалу сложно, потому что те три человека из ста, которые сильно соображают, не понимают, что ты за хуй такой нарисовался. Это же два мира — отдельно наёмные рабочие, бригады вот эти строительные, и отдельно директора всяких фирм и прочая херня. И они настолько разные, что между ними теперь нужны, как мы их на сленге называем, «работорговцы» — связующее звено. На стройке нужны люди, а людям нужна работа, но они друг от друга настолько сильно далеко, что между ними появляется ещё один вредитель-прокладка, который деньги с этого имеет. И при этом ответственность непонятно на ком лежит. Она скатывается к личному составу, так удобнее. Проще сказать, что человек допустил несоблюдение норм и правил труда при работе на высоте и по личной безалаберности не пристегнулся страховочным поясом, чем признать, что сложилась такая обстановка. Если человек всё время пристёгнут, а тут не пристегнулся — бывает — он тут же засуетится. А постоянно не пристёгивается, потому что он заёбанный, и ему уже не до того, ему не важно, охрана труда не нужна, и никто за этим не смотрит. И они падают регулярно. И толком ничего с этим не делается. Кроме альпинистов, насколько я знаю, которые успешно пытаются в профсоюз. Но они прям узкоспециальные ребята.
Ну, а тут пришёл, как-то себя показываешь, и дело не в документе, дело в подходе. Я — вот этот вот русский, который, прежде чем что-то делать, открывает инструкцию. Всегда на меня как на долбоёба смотрят: «Что ты там читаешь? Что ты там не видел?» Ну, а вдруг там что-то, чего я не видел? Это очень широкий вопрос, ко всей стройке целиком относится, от самой маленькой до самой большой — это вопрос несоблюдения строительной технологии. Всё время пытаются изобрести что-то новое. И изобрести не в целях повышения производительности, а в целях оптимизации расходов экономических. Зачем мы будем заказывать по нормативу, допустим, 50-тонный кран, если тут и 35-тонный на короткую стрелу возьмёт, справится. А то, что у машины должен быть запас — уже неважно, так дешевле. Несоблюдение технологии выстрелит позже, сильно позже.
По поводу строительных технологий я выработал аргумент, но его не хотят никак принимать. Вот элементарный светильник поставить — к нему паспорт. В паспорте написано: «вырежьте вот такое отверстие, потом вот так сделайте». И начинается: «Зачем так делать, из 11-ти пунктов, как нужно монтировать его, давайте выполним 7». Это инструкция, она же импортная. Когда эту инструкцию печатают и передают через таможни, когда это всё допуск получает, сертификаты ТР ТС [документ, подтверждающий безопасность продукции и соответствие требованиям конкретного технического регламента Таможенного Союза — прим. Сизифа], они же юридическую ответственность несут за то, что в инструкции написано, за каждую букву. А если ты не соблюдаешь эту инструкцию, ты как бы ответственность берёшь на себя — это первый аспект, чисто юридический. И второй аспект, чисто технический — там инженеры на опытном производстве сидели, выдумывали, как это правильно сделать. 25 одинаковых светильников по-разному монтировали: вот так не получается, так получается получше, вот так получается совсем хорошо, давайте так 100 раз поставим. Выяснилась какая-то тонкость, которая только на потоке видна. Огромный инженерный аппарат с подходом, со знанием разрабатывал технологию монтажа конкретного изделия. Потом об этом написали книгу, которая является юридическим документом. А мы здесь внизу на монтаже: «Нет, мы не будем соблюдать, мы попробуем по-своему». Мы труд всех тех людей — нахуй, мы тут умнее, нам тут виднее. Поэтому получается статья «Непредвиденные расходы», когда пытаешься сэкономить на несоблюдении строительной технологии и переделываешь эту работу трижды. А деньги где взять..? А их, в конечном итоге, негде взять. И там два варианта: либо ты недополучаешь в зарплате, либо коммерсант, если он более-менее честный, идёт продавать машину и с этих денег платит. Таких встречал, это в основном молодые люди до 30 лет, которые поднялись из рабочих, у которых в голове что-то есть. А с иными в лучшем случае можно договориться на возмещение половины.
Я считаю, что проблемы строительства современные более комплексные, чем просто строительство, они изначально шире лежат, за сферой строительства. Складывать кирпич на кирпич — оно незатейливо, две недели курсы — и пошёл. Дело в том, что уже и раствор — говно, и кирпич — говно, и фундамент под этим кирпичом лежит — говно. Из говна и палок не построишь, особенно когда палки кончились. Это комплекс, направленный на совсем другие цели. Нет задачи оставить после себя здание, которое 100 лет простоит. Есть задача сейчас заработать на этом деньги. Главное — сдать.
Я когда работал в общестрое [общестроительные работы — это массовые виды строительных работ, связанные с возведением зданий и сооружений – прим. Сизифа], там был момент, когда появился внешний надзор. И мне дали задачу отписаться от замечаний. Ну хорошо, в предписании пять пунктов, от трёх можно просто отписаться, а от двух — нельзя, там переделывать надо. И начинаются фокусы, когда в стене кабель лежит полтора квадрата, а должен быть два с половиной. Вот вместо того, чтобы поменять его весь, со стороны счётчика метр поменяем, и со стороны розетки метр, проверяющий же стены бить не будет. Акты скрытых работ подписываются, в основном, не глядя. И всё, а кабель мало того, что полторашка, он теперь ещё хуже — не очевидно, что она там.
У меня есть теория, что всё это свой ресурс выработает примерно в одно время, значит, наебнётся в одно время, потому что культура реконструкции — это не про нас. На реконструкциях тоже принцип — чем дешевле, тем лучше. Проектов нет, проектная школа — всё, преемственность утрачена. То есть это, по сути, отрасль, которую надо с нуля начинать. Ремонтопригодность у современных устройств чем дальше, тем ниже. Вот даже, например, автоматические выключатели, которые в старом фонде, в хрущах, большие чёрные карболитовые выключатели. Они чем хороши — их можно разобрать и отдельно вышедшие из строя элементы взять и поменять прямо на месте. А всё, что современное, оно неремонтопригодное. Это модульные принципы: ты снял и выбросил в мусор, даже если ты рукодел дохрена. И самое печальное, что оно больше всего ебёт именно широкую народную массу. Когда человек сам сделать по коммуналке не может, он вызывает электрика, тот приезжает и говорит: «То, что в щитке автоматном — моё, а дальше это всё ваше, у вас там оно приватизировано, и у нас же документ есть о том, где граница раздела. То, что частное — я могу вам поменять, но за деньги, давайте мне все материалы и 500 рублей сверху». А все материалы дорогие, и у них тенденция — они теряют в качестве и добирают в цене, то есть оно — говно, и дорогое говно. И чем дальше, тем больше разрыв между ценой и качеством. Там ещё макроэкономика вмешивается, качественные материалы просто пропадают как явление, потому что они все с той стороны были. Китай чё-то пытается, сравнительно неплохо пытается, но, смотря, с чем сравнивать.
Электрики, кто обслугой занимается, вплоть до подстанций, знают, что есть мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, зимой электричества больше потребляется. Самое страшное — это Новый год, когда коэффициент единовременного использования [показатель, который характеризует степень одновременного использования двух или более электрических приборов в сети — прим. Сизифа], который не может быть больше единицы, равен полутора. Потому что, кроме всего прочего, напихали китайских гирлянд, включены все чайники, все духовки, микроволновка, машинка достирывает там… это же классика.
Давай вернемся к вопросу охраны труда на производстве.
Если заказчик — какое-нибудь унитарное предприятие, косвенно государственный заказ, то на генподряде, как правило, государственная контора, у неё свои люди из комитета по строительству. Там охрана труда из разряда «каски на них оденьте, хотя бы». Ну, ходят, жилетка, каска. На частных стройках охрана труда — что это такое? Это никто не контролирует, вообще насрать. Или вот ремонт в квартире делаешь — оно же не объект строительства, хотя по факту — это реконструкция. А нигде никто не контролирует. С охраной труда на больших стройках более-менее. Чтоб внешне всё смотрелось, без каски, без жилетки — нет, нельзя. В кузов лезть, сваи стропить — нельзя. А как её застропишь иначе, она не на площадке, а в самосвале лежит, туда лезть надо. А когда ты туда внутрь залез, там неиллюзорный риск того, что она тебя к стенке прижмёт.
Чтобы соблюдалась охрана труда, нужна квалификация, человек должен понимать риски. Что мне сильно нравится в альпинизме, у них там первый пункт — оценка рисков. Самый первый, до того, как приступишь к выполнению работ. Также должно быть, когда разрабатываешь технологические карты для типовых операций, то есть когда работа однотипная. И вот там на первом этапе должна быть оценка рисков, но кому это нужно..?
Тебе приходилось общаться об охране труда с нашими товарищами из братских республик? Они пытаются разобраться в этих вопросах вообще? Ведь именно они чаще всего страдают и нередко погибают.
На больших стройках с ними очень сложно общаться. Во-первых, потому что языковый барьер, у многих плохо с языком. И я тут без претензий, это констатация факта. Встречались бригады, где на 30 человек один знает язык, как правило бригадир, вот он переводит. Должности переводчика на стройке нет, особенно при нынешнем способе организации строительства. С теми, кто разговаривает, о каких-то правовых нормах сложно рассуждать. Они настолько сильно поражены во всех правах, на мой взгляд, что они в принципе этой темы касаться не хотят. Там же трюк в том, что им прям хорошо хватает. В этом фокус, что, несмотря на то, что со стороны он копейки получает, по нижней границе, но куда он эти деньги отправляет — он там прям хорошо живёт. Многие ребята получают здесь условные 80-100 тысяч и умудряются всю свою родню кормить.
А встречались ли тебе примеры какой-то самоорганизации, отстаивания прав на стройке?
На большой стройке нет, на большой стройке обычно такими делами занимается какой-нибудь старый дед, который помнит, как было когда-то. А так чтобы чего-то добиться…
У меня был случай, когда я боролся, боролся, доборолся до того, что без работы остался. Ну, там у ребят условия труда остались, я себе этим успокаиваю. Не знаю, насколько соблюдается сейчас, давно дело было. Нужно было выполнить сильно специальные работы. И на них никто не соглашался, а те, кто соглашались, им издалека ехать, чтобы эти работы выполнить, через это сильно большой ценник у них был. И работодатель посчитал, что ему дешевле нас отправить официально отучиться. А потом мы приехали и такие: «Так, как ты говоришь, мы не будем работать, нас только что научили». Он такой: «Ну, вы же понимаете, что я вас, ребят, сейчас всех попру?» Мы в ответ: «Да пох, ты же нас сам в это противоречие загнал. Мы только с курсов приехали вчера, а ты нам сегодня предлагаешь всё, чему нас учили сильно опытные люди, послать нах? Нет, нет, домой». Коллектив электриков был сильно сознательных, все там из оперативных, скажем так. Правило, которое ты не понимаешь, нужно соблюдать строже, потому что ты процесса не понимаешь.
В частном строительстве охраны труда просто нет, как явление отсутствует. Рабочие, кто постарше — там охрана труда заканчивается, как правило, на перчатках и очках. Я когда на маленькую стройку припёрся в каске, меня спрашивали: «Зачем?» А с каской проще: не нужно ходить и бояться, что сейчас получишь по башке арматурой. Дело такое: если коцнуло, что-то внутри осталось, потом заживает плохо, сразу не обработал — загноилось. А каска для этого и нужна. Сапоги — то же самое, я не понимаю, как можно работать в тапочках, мне это тупо неприятно, сейчас тапочек соскочит — и пиздец.
Как так получилось, что ты ушёл из большой стройки, где хоть формально соблюдают охрану труда?
Я перешёл в частную — там платили больше на тот момент. Просто за деньгами. Там, как всегда, всё немного сложнее. Инженерный состав ходит, мозги ебёт, мол, гайки не туда крутишь, вот здесь зазор не соблюдаешь… А то, что этот зазор у тебя сейчас не 2 миллиметра, а 5, и когда все эти слои наберутся, у тебя в конце вместо допустимых 15 мм на финише вылезет полтора метра — вот это сложно объяснить, особенно человеку низкоквалифицированному. И, получается, что самая неблагодарная профессия на стройке — это прораб, потому что тебя со всех сторон ебут: и сверху, и снизу. Потому что для рабочих ты — вот этот козёл, который ходит и ноет, а для руководства, в том числе для инженеров повыше, для дирекции и фирм, ты — вот этот тип, который ходит и говорит: «Ребят, у вас тут пиздец!»
Меня как-то с детства инженерному подходу учили: причём здесь деньги, мы строим, оно работать должно, оно должно остаться как можно дольше после нас, надо построить со всеми запасами. Побежал, молодой, горячий: «Вы чего творите, ребят, это пиздец!» — «Ты что ж шумишь? Ты что пришёл, строить собрался? Иди и строй, мы тут деньги зарабатываем». Я попытался в генподряд сходить. «Давай, мы с тобой тут вроде по-человечески, по-дружески, как мне провернуть, я не могу на это смотреть» — «Можно вот такую бумажку написать, можно вот такую бумажку написать, но ты лучше ничего не пиши». Ладно. На второй или на третий день мне предложили в лесок съездить. Я так до конца и не понял, то ли там попугать хотели, то ли действительно хотели отвезти, я проверять не стал. Сколько-то ещё у них проработал, очень тяжело, там же сразу репрессивный аппарат, сразу ебать по зарплате. С учётом того, что работаешь наперёд, то есть сначала работаешь, а потом деньги, о том, что тебя обули на деньги, ты узнаёшь уже сильно после.
И вот у меня на работе такая хуйня, а тут мне тип звонит: мол, мне грамотный человек нужен в контору. Предложил почти в два раза больше. Что тут было думать? Так и ушёл в маленькое строительство. Я считаю, что инженерный подход должен быть у каждого в элементарных моментах, не то, что ебейшая квалификация, все нормативы, там все 56 томов знать на память, нет. В чём состоит инженерный подход — не в том, чтобы всё знать, а в том, чтобы не стесняться: «Я не знаю, как сделать, не готов об этом разговаривать, дайте мне час, я подготовлюсь, базу нормативную освежу, какие-то чертежики себе нарисую, в голове структурирую этот вопрос. Я не справочное бюро с ходу отвечать, мне надо время».
Самое печальное, что подход, ответственность — скатываются вниз, и уже исполнители работ — они сами себе инженеры. А дальше те, кто делают плохо, сбиваются в свои шайки, и делают дёшево, но очень быстро, с этого живут. Рынок создал эту нишу, и она незамедлительно заполнилась этими людьми. Сто лет книжку все электрики этой страны пишут, статистика, смерти формируют эту книгу. Сто лет все электрики пишут эту книгу своим ежедневым трудом, а он круче, чем сто лет электриков. Есть отдельные люди, которые соблюдают все нормы и без работы сидят.
Давай под занавес какие-нибудь хорошие впечатления, положительный опыт работы на стройке.
Хорошо то, что, когда толпу людей в одно место сгоняешь и заставляешь заниматься одним трудом, эта толпа людей превращается в коллектив, это неизбежно. Чем суровее условия труда, тем более дружный коллектив — вот это я прям заметил. И там-то как раз проявляется условный интернационализм. Если человек способен хотя бы к размышлению на базовом уровне, просто элементарная логика… я не помню, чтобы на стройке между собой там кто-то шутил про «чурок». Мне не встречалось за всё время, чтобы так шутили. Потому что когда начинаешь общаться, когда начинаешь знакомиться, становится очевидно и понятно, что мы-то одинаковые, вообще. Ну да, он плов ест, от него луком пахнет, а от меня сегодня чесноком, а завтра — водкой, ему, наверное, тоже не нравится. А вот он компактный, но три мешка взял и понёс. Я в жизни так не смогу, я пополам сломаюсь. И вот сегодня мне там чё-то тяжёлое надо нести, я к нему: мол, дружище, помогай. И мы вместе что-то делаем. А завтра ему надо чё-то, он меня помочь просит. На стройке единоличников не любят сильно — этих ребят, которые приходят и с криками: «Да мне похуй, я работу делаю», начинают чужой труд портить — таких людей выживают из коллектива в два счёта. Последние несколько лет начали алкоголизм не любить: если лет 10-15 назад среди электриков трезвый электрик — нонсенс, потом с этим начали бороться, и в какой-то момент даже в условиях дефицита кадров, ребят, замеченных в таковом, отстраняли. Тут же надо отделить тех, кто раз в две недели приходит с бодуна, от тех, кто прям запойный — это же разные вещи. Там же ещё надо разобраться: может, человеку хуёво, может, у него масштаб беды совсем другой, может его за шкирку надо вынимать, пока его совсем не затянуло. Тут надо, я считаю, каждую ситуацию разбирать. Но последнее время пьяниц на стройке не любят, сильно не любят.
Ну и традиционное напутствие для наших читателей.
Уходя, выключайте электроприборы.



