Интервью
Интервью с ученой-нейробиологом
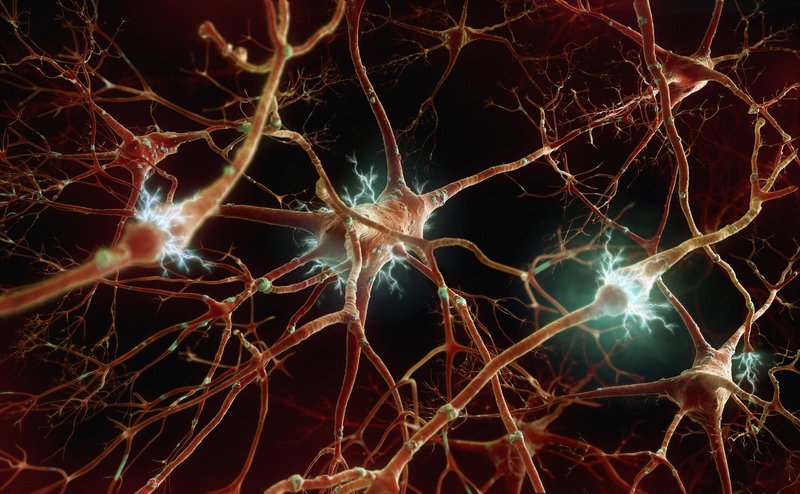
Читая этот текст, лишь сильнее убеждаешься в идее того, что у всех эксплуатируемых общий классовый интерес. Неважно, кто ты: слесарь, учёный-биолог, курьер, менеджер среднего звена, сантехник, официант, уборщица. Всюду оптимизация ради прибыли, а если простыми словами – ты делаешь десять дел одновременно, выполняешь функции нескольких сотрудников сразу. Всюду нехватка зарплаты, всюду совмещение и многозадачность, везде переработки. Всюду «жёлтые» профсоюзы.
Также видно, что во всех сферах прослеживается одна и та же черта – за счёт того, что рядовой сотрудник выполняет много обязанностей, он становится погружён во множество процессов. Он знает, как правильно организовать работу, и руководитель ему зачастую мешает, потому что цель его не сделать работу хорошо, а сделать работу прибыльно. Они смотрят на производственный процесс под разными углами. Правильный взгляд у тебя, рядовой сотрудник, кем бы ты ни был!
Мария, привет! Расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
Привет! Я работаю в научной организации в качестве научного сотрудника в лаборатории. Лаборатория занимается нервной системой в норме, в патологии. Мы изучаем экспериментальные модели, работаем как с лабораторными животными, так и с архивным человеческим материалом.
С какого возраста ты начала работать и как строилась твоя карьера? Всегда ли это была наука?
На самом деле, мне с этим повезло, так как именно работать я начала только в университете. Прям самой зарабатывать на жизнь. Изначально мне, конечно, не давали ставки в лаборатории: я пришла в лабораторию и была просто на птичьих правах, ходила, как студентка. Для того, чтобы хотя бы как-то не подохнуть с голоду, я устроилась, по-моему, мороженое продавать в парке. И этим я занималась, наверное, всё лето. А уже после этого мне удалось устроиться на ставку. Мне было лет 20.
Это примерно с 3-го курса?
Да, где-то в районе 3-го курса, и тогда я пару лет проработала лаборантом-исследователем. Затем я прошла конкурс на ставку научного сотрудника. С тех пор так и работаю научным сотрудником.
Стало быть, твой работодатель – РАН, Российская Академия Наук?
Наш институт сначала принадлежал РАМН (Российской Академии Медицинских Наук), но потом нас перекинули в РАН [в рамках реформы Российской академии наук 2013 года – прим. Сизифа]. А сам институт хотели объединить с другим учреждением – Институтом Мозга, хотя эти разговоры идут уже, навскидку, лет 10-15. И каждый год все сотрудники ждут «ну вот, всё, объединяемся!», но каждый год этот процесс оказывается на том же этапе, что и годом ранее. Не в том смысле, что мы этого хотим, конечно, ведь объединение будет означать для нас волну сокращений. Но с каждым годом всё нарастает апатия какая-то: «да объедините уже и «оптимизируйте», наконец, хватит мурыжить».
Ну и как тебе работается? Какие условия?
Условия, знаешь ли, не самые скотские, потому что наш заведующий лабораторией не практикует такие расхожие в сфере вещи как: оставаться в лаборатории за полночь, приходить в 6 утра. Обычно ты приходишь и уходишь в удобное время. Главное – всё сделать. Я обычно прихожу к 10-11, а к восьми вечера уже заканчиваю. Бывает, задерживаюсь подольше, но тоже ненадолго. После девяти вечера я в лаборатории никогда не оставалась. Сейчас, летом, я вообще досиживаю часов до пяти, понимаю, что устала писать свою диссертацию, и переношу остаток работы на следующий день. Я так понимаю, что шеф осознаёт, что мы все не на полной ставке, поэтому требовать от нас восьмичасового рабочего дня он не имеет морального права. Вот такой он человек. Таким образом, мой обычный рабочий день длится 7-8 часов.
Ты упомянула, что у тебя неполная ставка.
Да, у меня 0,25 ставки. Я была на прошлом учёном совете, где поднимался этот вопрос. Оказалось, у нас во всём институте на полной ставке два человека. Остальные – четверть, либо половина. То есть мой официальный рабочий день – с 11 до 13 часов.
Имея такой рабочий день, как ты всё успеваешь?
Напрягаюсь! Конечно, когда я была помладше, было очень сложно за всем уследить. С определённого момента я стала писать план на каждый день, в конце дня с ним сверяюсь. Бывают, конечно, форс-мажоры, когда, например, приходит время писать отчёт по гранту. Или когда приходят студенты, которые всё сделали неправильно, за ними нужно всё переделать, потом пришёл какой-нибудь коллега из другого института, и его нужно, например, на микроскоп провести, или ему нужно заливку сделать, или с ним нужно покрасить что-то [заливка – этап гистологического процесса, в ходе которого фрагмент ткани заливается в парафиновый блок, за счет чего происходит уплотнение ткани, необходимое для дальнейшего изготовления тонких срезов; покрасить – визуализировать исследуемые структуры ткани на гистологическом препарате с помощью специальных красителей или других реагентов – прим. Сизифа]. А иногда мои планы накладываются на чужие планы. Например, мне нужно сходить на конфокал [конфокальный микроскоп – прим. Сизифа], а на конфокале уже кто-то сидит. Ходишь потом неприкаянная, грустная, потому что уже всё было распланировано.
Ощущается нехватка оборудования?
Именно оборудования – нет. Просто этих конфокальных микроскопов у нас всего два, я умею работать только на одном, как и большинство коллег. Конфокал – это очень дорогая машина, причём обе они находятся в нашей лаборатории. Это довольно распространённая практика, когда в научном институте подобных устройств мало. Три – это максимум, который я встречала.
Как оплачивается труд учёного? Достаточно ли для поддержания жизни, или приходится, условно, продавать мороженое?
Конечно, недостаточно. Строго говоря, у меня две работы. На второй, серой работе я фактически выступаю в роли консультанта для других лабораторий. Коллеги из других подразделений приносят мне препараты и консультируются по поводу их дальнейшего изучения, и приходится разбираться: тут вот так, там этак, а здесь вообще всё фонит и неспецифика [фонит – даёт фоновый сигнал за счёт способности не интересующих исследователя компонентов ткани осаждать на себя красители, антитела либо аутофлуоресцировать; неспецифика – неспецифическое окрашивание тканевых структур, возникающее в результате связывания антител и других используемых реагентов с различными компонентами ткани – прим. Сизифа]. В общем, за консультации и планирования возможных исследований, например, по нейрогенезу, мне ещё двадцатку в месяц отстёгивают. Но тоже по-чёрному, конечно же. С нашими зарплатами вообще смешная история. Когда я проходила конкурс, официальная зарплата на полную ставку (которая должна была равняться двум средним по региону), была 11 800. Соответственно, мой оклад, который я получаю с учётом дробной ставки, не дотягивает до 3 000 в месяц. У нас действует система стимулирующих надбавок, которая формирует наш основной доход. С их учётом я получаю где-то 35 000 или около того. Ещё есть такая потрясающая вещь, как зарплаты с грантов. Гранты – в принципе отдельная интересная тема. Лаборатория пишет заявку на исследование: мы хотим исследовать то-то и то-то, у нас для этого есть такие-то и такие-то методы. У нас в этой области есть такой-то опыт. Расписывается план того, как это всё будет исследоваться. Расписываются (моё самое любимое) предполагаемые результаты, которые мы хотим получить. То есть вы ещё не начали исследования, но результаты, которые должны получиться, извольте изложить. Это всё подаётся в Российский Научный Фонд, где эксперты оценивают заявку по каким-то своим критериям. Если твоя заявка проходит, выделяется финансирование. С этого финансирования ты можешь закупить оборудование, закупить реактивы, закупить лабораторных животных, если это нужно, закупить корма для животных. Отдельная статья расходов – зарплаты сотрудников. Неплохая стимулирующая надбавка. Но прикол гранта в том, что им ты занимаешься в свободное от работы время. Официально заключается дополнительное соглашение с институтом о том, что деятельность по гранту ты осуществляешь в нерабочее время. У некоторых лабораторий гранты – единственный источник доходов, то есть они в принципе существуют только за счёт них. Это очень щекотливая ситуация потому, что, во-первых, финансирование не резиновое, а во-вторых, грант тебе могут и не дать. Получается, год у тебя был грант, ты более-менее нормально жил, а потом – хоп! – и грант тебе не продлили. Грантовые деньги закончились, лапу соси.
Да уж, незавидная ситуация. А разные сотрудники получают разные зарплаты, или у всех примерно одинаково?
Нет, зарплаты разные, причём имеет место такая практика, когда, знаешь, выдают зарплаты в конверте, и ты не должен никому говорить, сколько ты получил. Вот примерно так же. К тебе подходит заведующий лабораторией, который подписывает все эти табели о зарплате, выдаёт твою бумажку и говорит: вот, я получил зарплатные ведомости из бухгалтерии, никому не показывайте. То есть мы не знаем, сколько получают другие сотрудники, но, учитывая то, что надбавки распределяет заведующий лабораторией или заведующий отделом, это определённо разные суммы у разных людей. Также на разницу влияет и то, какая у тебя ставка: если ты научный сотрудник (обычный, младший, старший, ведущий, главный) или лаборант, рассчитывать ты можешь на совершенно разные суммы.
В идеале, если у тебя справедливый заведующий лабораторией, то он оценивает сотрудников по степени вклада?
Конечно, хочется верить, что оно именно так, но как ситуация обстоит в реальности, я не знаю.
С учётом этих грантов, надбавок и проектов регулярно ли происходят выплаты зарплаты?
Нет. Есть какая-то сумма, которую ты можешь потратить на зарплаты сотрудников. И руководитель гранта сам решает, в какой месяц финансового периода тебе эту зарплату перечислить. С грантовыми деньгами есть ещё один нюанс: около 20% забирает себе институт. И это нужно учитывать при планировании закупок и выплате зарплат. До сотрудников зарплаты по грантам доходят около 4 раз в год. Причём сумма не может превысить ту, что заложена в статье расходов «На зарплаты сотрудников». Неизрасходованные деньги из других статей расходов в нашем институте не могут быть переведены в зарплатный фонд. Финансовый отчёт по гранту – это отдельный кошмар. Я пишу научные отчёты, мне хватает этого.
У тебя срочный трудовой договор?
Да, срочный, мы заключаем его на 5 лет, а через каждые 5 лет проходим новый конкурс. По-моему, ни у кого из наших научных сотрудников нет бессрочных договоров. А наш заведующий отделом, например, вообще заключил договор на год. Через год, соответственно, он должен пойти на конкурс, но я подозреваю, что через год его уже не будет.
Ты уже упоминала, что на тебя возложены задачи работы со студентами, исследовательская работа, гранты и отчёты по ним. Из чего в целом состоит твоя трудовая деятельность?
Есть такое немного романтическое представление об учёном, что он приходит на работу и целый день экспериментирует.
Как говорил Арцимович, «удовлетворяет своё любопытство за государственные средства»!
Да! «Сволочи, вас всех повешать надо! Ещё и деньги за это получаете!» Увы, это не так. Чтобы начать исследовать, исследование необходимо запланировать. Ты не можешь просто заявиться к руководству и сказать: «Я хочу заниматься такой-то тематикой». Тебе обязательно зададут вопросы: «Где план по госзаданию? Как это соотносится с темой научных исследований лаборатории?», и т.д. Сначала необходимо написать заявку на фундаментальное либо поисковое научное исследование, которую затем присовокупить к общеинститутской заявке. Собственно, такие заявки и являются частью моей работы. После того как институт на учёном совете одобрит тему, и когда тебе выделят госфинансирование, ты начинаешь над ней работать. Мы работаем с иммуногистохимией, которая часто имеет наглядную визуализацию эксперимента. Естественно, это творческий процесс: ты можешь прогнозировать, что получишь, но наверняка знать нельзя. Наверно, это самая интересная часть исследования. Потом полученные результаты необходимо объяснить. Это вторая самая интересная часть исследования, включающая в себя обильную работу с литературой. Неприятности не заставляют себя ждать: нужно написать кучу статей по фундаментальному исследованию, которое тебе одобрили, соответствующий отчёт, патенты, зарегистрировать интеллектуальную собственность на базу полученных данных. Это отнимает довольно много времени, и у каждого типа упомянутой писанины есть свои правила. Скажем, написать патент, сделать базу данных, и написать статью – три большие разницы. В идеале этим занимаются разные люди, но так получилось, что, например, я выполняю все три задачи, этакий универсальный солдат. После всего этого приходят студенты, которых нужно обучить, которым нужно кучу всего объяснить, «поставить руки», выдать задание и тематику, по которой они будут работать. Нужно быть готовым к тому, что ВКР [выпускная квалификационная работа, диплом – прим. Сизифа] этого студента никоим образом не пойдёт вам в зачёт, ведь институты, из которых студенты приходят, обычно присваивают эти работы себе.
Попахивает какой-то жуткой бюрократией.
Это ведь ещё не всё! Есть ещё закупки, которыми мы должны заниматься. И по фундаменталке, и по грантам. Как это происходило раньше: ты ищешь реактив, который тебе нужен, пишешь дистрибьютору, который у нас в России занимается закупкой реагентов зарубежных компаний, запрашиваешь у него коммерческое предложение (КП). Дистрибьютор делает запрос в компанию, которая это производит и высылает КП, а ты делаешь заявку за закупку. Это где-то, наверно, страницы четыре сложно осознаваемого текста. На первой странице ты пишешь, по какой статье закупка, что вы покупаете, на какую сумму, кто ответственное лицо. Вторую и третью страницу обычно заполняли другие отделы, а на четвёртой пишется техзадание. Пишешь каталожный номер реагента, кто это производит, кто распространяет и краткое описание. Бывает, как дура, сидишь и копируешь с сайта поставщика, что там написано. А иногда описания нет и приходится его выдумывать. Лезть в википедию и писать: «P2Y12 – такой-то и такой-то рецептор пуринов, экспрессируется на мембране макрофагов, он нужен нам для иммунофлуоресценции…». Пока это всё составишь – заколебёшься. Но тебе нужно не только это КП! Нужно ещё два альтернативных, их ты тоже прикрепляешь, тендер же! Отдел закупок составляет договор, ты какое-то время ждёшь, тебе это всё привозят и… ты составляешь акт приёмки. По такому-то договору такой-то поставщик поставил то-то и то-то, были выявлены такие-то нарушения приёмки. Например, если у тебя в договоре прописано 15 дней на поставку, а тебе привезли вещества на 16-й день, то ты пишешь служебную записку от заведующего лабораторией с рассказом о том, что «нам поставщик просрочил на одни сутки доставку. Просим с него взыскать штраф». В ходе всего этого процесса у тебя на руках оказывается масса документов, среди которых не найти двух похожих, ты приносишь это всё в отдел, который этим занимается, а через сутки получаешь оттуда звонок: «А мы тут ещё нарушение выявили, давай ещё записку!». В общем, эта канитель с каждой новой поставкой вызывает всё больше отторжения. А моё любимое – это когда поставщики делают ошибки в договорах. Бухгалтерия бьёт тревогу, ты связываешься с поставщиком, просишь переделать договор, они присылают новый вариант, естественно, тебе, а не бухгалтеру, ты снова берёшь кипу документов и несёшь её в нужный кабинет. Совсем недавно у нас было три таких поставки подряд! По одной из них мы уже в третий раз переделываем документы. Я думаю, поставщики нас уже ненавидят.
Есть ли у вас в организации возможности карьерного роста?
Смотря что мы понимаем под карьерным ростом. Есть ступени, на которые ты постепенно забираешься. Вот ты приходишь, зелёный студент, тебе дают ставку лаборанта. Вот ты поработал, защитил с Божией помощью свою ВКР, приходишь в институт работать, тебе, может быть, выдадут ставку научного сотрудника. Работаешь над своей диссертацией (что может занять и 10 лет, бывает по-разному), после защиты кандидатской ты можешь претендовать на ставку старшего научного сотрудника. За кандидатскую диссертацию, как я помню, смешная прибавка к зарплате, тысячи две-три, причём это пропорционально твоей ставке. То есть, если ты, как это часто бывает в научных организациях, работаешь на полставки, это не три тысячи, а полторы. Затем – докторская диссертация. Докторскую, кстати, ты можешь и не защитить, так как требования к ней значительно жёстче, чем к кандидатской. Докторскую легко могут не пропустить на диссовете, особенно если у кого-то в совете конкретно от тебя горит жопа. Обожаю присутствовать на наших диссоветах, это потрясающе смешно.
То есть личная неприязнь члена диссовета может испортить карьеру?
Бывает, даже на кандидатских защитах вбрасывают на итоговом голосовании «чёрные листы» (чёрный лист – бюллетень члена диссовета, голосующего против присуждения учёной степени, либо против принятия диссертации к защите). Считается, что «чёрный лист» – это заявление против руководителя диссертации. Формально диссертационный совет только принимает твою защиту и даёт одобрение на то, чтобы ты отправил все свои материалы в ВАК [Высшую Аттестационную Комиссию – прим. Сизифа], и уже ВАК присуждает учёную степень. В целом всё довольно мутная фигня, примерно как с «положениями, выносимыми на защиту» и «выводами» в диссертации. Я спрашивала у уже защитившихся, в чём разница между этими двумя понятиями, на что ответом было: «Не знаю, так принято». А мне их надо писать! В науке вообще очень много таких вещей: никто не понимает, зачем они нужны, но они есть. «Так исторически сложилось».
Если неприязнь члена совета к научному руководителю может проявиться в срыве защиты диссертанта, что ты можешь сказать о взаимоотношениях внутри коллектива в целом?
У нас коллектив более или менее сконцентрирован в одной лаборатории. И там, хочешь не хочешь, все нормально друг к другу относятся. Есть и работа между коллективами, например, когда два отдела работают над одной публикацией, это тоже формирует хорошие взаимоотношения. В чём-то они нам помогают, в чём-то мы им. Например, в обход каких-то заявлений пускаем на микроскоп. Фактически для того, чтобы прийти к нам на конфокальный микроскоп, о котором я говорила ранее, нужно подать служебный запрос на имя директора, после чего директор заведующему отдела скажет: «Вот тут человек хочет к вам прийти на конфокал». Он, соответственно, одобряет или нет. Есть люди из других отделов, которых мы уже давно знаем, поэтому они могут нам просто позвонить и сказать: «Я тут покрасила кое-какие клеточки, мне нужно их отснять». А мы отвечаем: «Да, приходи, ждём тебя завтра в три часа». Из-за того, что даже в повседневной работе нужно составлять очень много всяких бумажек, тебе обычно идут навстречу. Но для этого надо не быть козлом, выстраивать хорошие, доверительные отношения с сотрудниками других отделов. Если ты ведёшь себя как мудак, скорее всего, найдётся способ осложнить для тебя процесс прохождения всех инстанций, чтобы ты с большой вероятностью просто отвалил. Довольно часто мы просим у отдела генетики какие-то реактивы: «Ребят, нам РНКаза нужна», а они такие: «Есть у нас РНКаза, тысячу лет лежит в морозилке, приходите, забирайте». Я рассказала про процесс закупок, можете представить, сколько времени это экономит. Пытаемся упрощать друг другу жизнь.
Студенты приходят только, условно, диплом написать, или это настоящий поток новых кадров?
По-разному бывает. Чаще всего, конечно, приходит студент, у которого горят все сроки и которому через год нужно выдать свой диплом на кафедру, а он ещё даже не чесался. Тогда обычно заведующий кафедрой пинает его под жопу к нам и говорит: «Нужно сделать ему диплом». Основной поставщик кадров – Санкт-Петербургский Государственный Университет – не имеет материальной базы для того, чтобы обеспечить всем поступающим на биофак студентам работу над дипломом в своих стенах. Поэтому привлекаются сторонние лаборатории. Студенту со 2-го курса капают на мозги: «Ты должен обязательно пойти и самостоятельно поискать себе лабораторию, сам устроиться туда и, желательно, ещё без нашей помощи диплом написать и защитить». Помню по себе: каждый день пары с девяти утра до шести вечера, а тебе потом ещё в Петергоф ехать 2 часа. Нагрузка была бешеная (домашние задания, коллоквиумы… на физкультуру надо ходить, ведь могут и за неё отчислить). И курса до третьего у тебя нет времени чтобы даже подумать про эту лабораторию. Не знаю, каким чудом мне удалось найти свою.
Как тебе качество знаний приходящих студентов? Это чистый лист, или какая-то база у них имеется?
Те, кто приходят с кафедры универа, довольно хороши в плане знаний. Всё-таки, до сих пор очень хорошая методическая школа гистологии, студентов хорошо обучают, вдалбливают в голову необходимые знания. Как правило, студент оттуда уже готов к вещам, которые от него будут требовать, причём это касается и работы головой, и работы руками. А есть студенты, например, из педагогического института, есть студенты-медики. У медиков своя специфика: очень хорошо работают руками, просто прекрасно. У нас есть одна девочка, которая из всех студентов лучший методист. Быстро схватывает, всё запоминает. Когда ей говоришь, что нужно сделать какую-то окраску, она просто открывает свой блокнотик, у неё записан весь протокол работы. Ей не нужно объяснять заново. А когда дело доходит до того, чтобы написать статью, оказывается, что она этого просто не умеет, потому что в меде этому не учат. Ещё были из Герцена студенты, они немного странные, причём все по-разному. Даже не могу пока придумать, как с ними правильно работать. Из Лесопилки к нам приходят. У них уровень знаний ниже, чем в универе, но они тоже неплохи. Очень многое зависит от человека, конечно: бывает, придёт хороший студент, и умный, и с хорошей методикой, но не срабатывается с коллективом, и поэтому приходится как-то ему давать понять, что на нашей базе мы не сможем обеспечить ему работу. Либо человек понимает это сам и уходит. Самое противное, что происходит в последние годы, – приходят ребята и сразу спрашивают: «А что вы можете нам дать?», «А когда у нас будет первая статья?». Я понимаю, почему такие вопросы задают, но студент начинает быть сколько-нибудь полезным в гистологии примерно через полгода. А он уже хочет научные публикации здесь и сейчас. Иногда понимаешь, что после защиты диплома студент уйдёт, и тогда на него совершенно не хочется тратить время.
Как при всём этом тебе удаётся сохранять задор, не выгорать?
Лично я просто избиваю людей по вечерам.
Надеюсь, ты про свои спортивные занятия?
Да. Обычно к середине дня ты просто смотришь вверх и кричишь: «Всё, меня это заколебало, я больше не хочу! Не хочу, чтобы мой труд отчуждался!» Вся лаборатория при этом на тебя смотрит, а самые смелые спрашивают: «Может, ты к психологу сходишь, проработаешь принятие?» Потом придёшь вечерком в спортзал, побьёшь пару людей, вроде, отпускает. На следующий день опять можешь бумажки заполнять.
То есть спасаешься чисто спортивными эндорфинами?
А больше и нечем. Другие формы эскапизма мне кажутся деструктивными, года полтора назад я бросила пить, например.
А что насчёт работы за рубежом либо в зарубежных проектах?
- Как правило, если ты пытаешься найти работу за рубежом, ты туда и уезжаешь. Там немного другая специфика. К лаборатории ты прикрепляешься на то время, пока идёт какой-либо проект. Когда проект заканчивается, тебя выкидывают из этого научного коллектива, и ты ищешь другой. Таким образом, постоянно колесишь между лабораториями. А существует и практика международных сотрудничеств, обычно они характерны для крупных междисциплинарных проектов. Один институт, с которым я работаю, имеет совместные публикации с группой из Берлина.
Что в целом думают люди о работе в российской науке? Есть ли вера в то, что где-то в волшебной стране учёные занимаются наукой, а не бюрократией, и имеют при этом стабильные достойные доходы?
Конечно! Это в принципе очень распространённое среди учёных поверье. Раз в России всё плохо, то где-то точно хорошо. Недавно на очередном собрании, где на нас скинули ещё больше работы по закупкам, кто-то заявил, что в Европе есть специальные люди, которые этим всем занимаются. Дескать, там трава зеленее.
Ты считаешь, что они заблуждаются?
Да. Я считаю, что везде есть свои недостатки. При взгляде отсюда, как правило, не видно внутренних глубоких проблем. Недавно у нас возникли неполадки с одной методикой: то ли реактив некачественный, то ли пароварка сломалась. И вот мы всей лабораторией начали обсуждать, что делать. И один коллега сказал: «А вот почему за рубежом таких проблем нет?». А кто же будет рассказывать, например, в статье, что у них пароварка сломалась и из-за этого методика не идёт? Я даже представить такую ситуацию себе не могу.
На фоне всех этих ломающихся пароварок и препон в занятиях наукой проявляют ли твои коллеги себя политически? Имеют ли они какие-то целостные политические взгляды?
Коллеги разделены, условно, на два лагеря. Первый – «Надо потерпеть, сейчас всех разъебём, СВО закончится, вернётся финансирование науки и тогда-то мы с колен встанем», второй – «Всё говно, Рашка-парашка, мы должны были слушать Немцова, Невзорова и прочих персонажей в этом духе, покаяться за Империю Зла, был бы правильный капитализм, зажили бы как в Европе». Говорю настолько конкретно потому, что есть как раз в нашей лаборатории два человека, которые регулярно разводят срач на эту тему. Я уже устала это слушать, если честно. Шеф тоже устал, поэтому запретил обсуждать политику на рабочем месте. С одной стороны, его понимаешь: если постоянно сраться, работа встанет, с другой – ты не можешь дистанцироваться от политических вопросов. Это твоя жизнь, и нельзя закрыть окошечко и сказать: «Всё, я только наукой занимаюсь и больше ничем». Всё происходящее влияет в том числе и на то, как ты будешь заниматься наукой. Отсидеться не получится.
Что насчёт борьбы учёных за улучшения условий труда, рост зарплат?
Даже не знаю, как это в принципе может происходить у учёных. Мы все кучкуемся одним своим отделом, может быть, разговариваем иногда с коллегами из других отделов, когда они к нам приходят для работы или на учёном совете. Несмотря на то, что у нас довольно хорошие отношения, найти точки соприкосновения в политическом/трудовом плане довольно сложно. Можно предложить: «А давайте пойдём и потребуем нормальных зарплат». Очень хорошая идея, но на тебя посмотрят, как на дурака. «Незачем, меня и той зарплаты, которая есть, лишат». Учёного очень легко лишить надбавок, после чего у него останется только голый оклад в 2 000 рублей. Очень быстро выбьют почву из-под ног, претензии исчезнут.
Тяжёлая ситуация… Есть ли у вас профсоюз, который отстаивает ваши интересы?
Профсоюз есть с советских времён. На деятельность профсоюза удерживается 1% от зарплаты, в конце года тебе выдают карту «Ленты» на 1000 рублей. Сходи, отметь Новый год. Сотрудникам с детьми какие-то там сладкие подарки…
Но это не то, чем должен заниматься профсоюз!
Да. Периодически я пишу заявления на налоговые вычеты за лечение, спорт, и прочее. Независимо от трат, они возвращали 6 тысяч. Причём всё это происходило до того, как наш бывший глава профсоюза умер. После выбрали другого человека, и вся деятельность профсоюза заглохла в принципе. Для того, чтобы они хоть что-то начали делать, приходилось на учёном совете вставать и говорить: «Полгода назад написали заявление в профсоюз, что там происходит?» Они сразу хватались за головы: «Ой, да, затерялось среди бумажек, давайте вы напишете ещё раз…» Пишешь ещё раз, получаешь одну тысячу. Очень хороший профсоюз.
Какой-то сюр: ты не через профсоюз давишь на начальство, а через начальство на профсоюз.
Не понимаю, зачем они вообще нужны в нынешнем качестве.
Что из себя представляет начальство? Это учёные или менеджеры?
До этого года у нас были всё-таки учёные на постах директора и замдиректора института. Но поскольку в марте заканчивался срок у директора, должны были пройти выборы. Выборы – отдельная песня. Институт от себя выдаёт список кандидатов на пост директора, который отправляется в Москву. Москва их одобряет или не одобряет, а вдобавок присылает своих кандидатов. В этом году всех кандидатов, которых выдвинул институт, завернули. Выборы директора не прошли, нам прислали исполняющего обязанности, и вот он уже менеджер. Да, он заканчивал Военно-Медицинскую Академию, но в науке очень давно не работал. Институт денег сейчас не приносит, вот и прислали кого-то, кто заставит институт приносить деньги. И вот он ходит по отделам, и спрашивает, как мы можем это сделать: проводить какие-то анализы, тестирование лекарств… Он уволил половину администрации, чем, конечно же, перевалил ряд дополнительных обязанностей на нас. Был «оптимизирован» отдел закупок, к примеру. Его слили с плановым отделом, оставили троих калек, а всем остальным пусть занимаются научные сотрудники.
Эффективно ли производится управление организацией?
Видно, что начальство пытается «крутиться», поднимать престиж института. Есть три категории научных организаций, вот у нас вторая категория, и финансирование соответствующее. Понятно, что для влезания в первую категорию должно быть много публикаций в журналах Q1 (Nature, Science и т.д.), а для этого необходимы оборудование, реактивы, объекты исследования современные, которые покупаются за бешенные тыщи, которых у института нет, потому что он второй категории. Но в новых условиях это уже не актуально. Отчитываться нам уже в конце этого года, мы не знаем, какие там будут критерии. Создаётся впечатление, что ты можешь только больнее упасть, а пробиться куда-то там наверх – нет.
Если я тебя правильно понял, недостаточно эффективная организация, недостаточно ресурсов как трудовых, так и материальных, чтобы институт мог производить научные знания для высокорейтинговых журналов?
В общем, да.
Связываешь ли ты качество работы организации с политическими событиями, или это чисто экономический эффект?
На мой взгляд, неправильно говорить, что все беды от того, что мы с кем-то не соглашаемся, конфликтуем, воюем. Политика всегда идёт за экономикой, от этого никуда не убежишь. Я считаю, что до изменения общей политической ситуации повышения эффективности работы российской науки ожидать не стоит. Кто сейчас финансирует исследования? Те, чьи интересы отличаются от интересов работников науки. Им интересно, как подороже её продать, как поставить науку на военные рельсы. Поиск истины, описание мира и прогнозирование их не интересуют. Невозможно в данной формации «починить» науку. Нет, конечно, политика, её взлёты и падения играют роль, но не настолько, как некоторым бы хотелось верить.
Есть ли в политике какая-нибудь фигура, которая в нашем буржуазном строе популяризировала бы научную работу?
Я такой фигуры не знаю. Самые яркие научные инфоповоды, которые мы имеем в последние годы, создают эксцентричные миллиардеры вроде Илона Маска. Да, он привлёк внимание к космической отрасли, но его действия формируют только потребительское отношение к науке, а не тягу к познанию и преобразованию. Сам концепт популяризации науки в основе своей ущербен. Тут акцент на популярности, а не на научности: заинтересовать зрителя мешаниной сочных псевдоинтеллектуальных фактов без формирования какой-либо системы знаний. Да и достоверность фактов оставляет желать лучшего, потому что неизбежно приходится упрощать, а упрощение в 90% случаев приводит к искажению действительности. Потом появляются всякие: «Я читал, что митохондрии [клеточные компоненты, предназначенные для выработки энергии – прим. Сизифа] исчезли из клеток!». Спрашиваешь, откуда он это взял, а он не помнит. Так что даже не проверишь, о чём в той публикации реально написано.
Высшие чиновники нашего государства то и дело заявляют, что необходим возврат к советской модели науки и образования. Как ты относишься к таким заявлениям?
Советское образование и советская модель в целом предполагали другой уклад экономики. Возрождение карго-культа СССР я считаю неправильным и вредным. У нашего соломенного самолёта нет ни топлива, ни двигателя. Не взлетит.
А за счёт чего он должен летать?
Честно говоря, не знаю, как в условиях рыночной экономики возможно продвинуть науку.
Что могло бы хоть немного привести в чувство российскую науку?
Я, конечно, могу сказать: хочу, чтобы финансировали больше науку и меньше военку. Хочу, например, чтобы ученых не заваливали бумажной работой, не связанной непосредственно с научной деятельностью. Хочу очень, чтобы грантовой конкурсной системы, которая заставляет нас соревноваться друг с другом за финансирование, где выигравшим сваливается уйма головной боли с составлением соглашений на соглашения и отчётам по составлению отчётов, а проигравшим предлагается хуй пососать, не существовало. Но проблема состоит в том, что фундаментальная наука всегда убыточна. Вкладываясь в неё сейчас, ты пожинаешь плоды работ спустя непонятное количество лет. Конечно, можно увеличить финансирование, надуть этот пузырь, заставить, как с фармкомпаниями, работать на прибыль и её увеличение, может, увеличить зарплаты, но в широком смысле науку это не продвинет. Ну а потом, увеличится финансирование – увеличится и спрос с нас. Это будет означать больше отчётов, больше бумажек, больше статей: а когда это всё делать? Где взять время? Будут переработки. Снять с нас обязанности по заполнению бумажек и нанять специальных людей? А что вы им сможете предложить? Зарплату нищенскую? Да, было бы хорошо, если бы учёный или любой другой сотрудник института не думал, на какую бы ещё работу устроиться, не стоит ли снова продавать мороженое. Но просто влить денег и дать критерии, по которым должна работать наука – недостаточно для её развития.
Какие перспективы российской научной отрасли ты видишь?
Перспективы, конечно, не радужные. Ближайший прогноз – наша отрасль станет придатком к фармкомпаниям. Нам будут присылать заказы на исследование, мы будем их исполнять. Это не наука, увы.
Если бы ты не занималась наукой, кем бы ты была?
Сколько себя помню, всегда хотела заниматься только этим. Ещё с 5-6 лет точно знала, что хочу быть учёным, несмотря на предостережения родителей о том, что учёные живут бедно. Я заканчивала и художку, и музыкалку, и занимаюсь сейчас единоборствами, но только исследования, открытия и новые научные результаты, даже в текущих безрадостных условиях, приносят мне чувство глубокого удовлетворения результатами моего труда.



